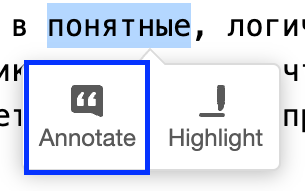Читать: 5334 слов, ~21 минуты
Социальная наука будущего может быть настолько же онтологически удивительной, как физика 20-го века
Дон Росс
Актуальность исследования
Цель диссертации: натуралистическое объяснение возникновения принудительной силы эпистемических конструкций (правил) в онтологии институтов.
Социальные институты — деньги, собственность, брак и другие — обладают принудительной силой из-за наших представлений о них. Коллективное представление «эта бумага — деньги» не описывает мир, но активно его формирует, наделяя бумагу причинной силой и способностью к ценностному обмену, а математическая модель оценки опционов, распространяясь среди трейдеров, становится для них руководством к действию, и реальные цены опционов начинают соответствовать предсказаниями модели (MacKenzie, 2006).
Подобные «онтологические эффекты» — способность эпистемических конструкций людей оказывать причинное и принуждающее воздействие на их поведение — одна из центральных и наиболее сложных проблем социальной онтологии. Внутри философии социальной науки это проблема отношения конструктивизма и реализма — вопроса о том, существуют ли социальные сущности объективно и отдельно от сознаний людей или же полностью зависят от последних (Guala, 2016a; Hacking, 1999). А проблема конструктивизма/реализма — частный случай проблемы соотношения реализма и антиреализма в философии науки — вопроса о том, существуют ли ненаблюдаемые сущности вроде квантовых полей, генов и атомов объективно, или же служат удобными фикциями (Okasha, 2002).
Джон Сёрл (J. Searle, 1995) одним из первых сформулировал проблему онтологического статуса социальных фактов и институтов: как можно быть эпистемологически объективным касательно онтологически субъективных вещей? Сёрл показал, что социальные (или, как он их называет, институциональные) факты создаются конститутивными правилами вида «X считается Y в контексте C». Эти правила зависят от коллективного признания (collective acceptance) и имеют принудительную силу1. Коллективное признание зависит от коллективной интенциональности (we-intentionality) — постулируемой Сёрлом когнитивной способности индивидов иметь сонаправленность мысли.
Принудительная сила и каузальность конститутивных правил исходят из их «деонтических сил» — создаваемых конститутивными правилами прав, обязанностей, полномочий, разрешений, требований и запретов. Например, факт «Этот человек — судья» наделяет его деонтической силой: правом выносить приговор, обязанностью соблюдать процедуру, полномочиями требовать показания. Эти полномочия имеют причинную силу, потому что мотивируют поведение. Люди признают эти полномочия и действуют в соответствии с ними, а также требуют их признания от других. Сёрл подчеркивает, что деонтические силы создают мотивы для действия, которые не зависят от личных желаний. Люди платят налоги не потому, что сами хотят, а потому, что есть обязанность их платить, вытекающая из статуса гражданина/налогоплательщика. Каузальная сила конститутивного правила — это способность статусной функции (Y), присвоенной объекту (X) коллективным признанием людей, мотивировать их поведение через систему деонтических сил.
Однако теория Сёрла часто подевргалась критике: из-за недостаточности деонтических сил для объяснения следования правилам (Guala & Hindriks, 2015), отсутствия механизма возникновения конститутивных правил и каузальности деонтических сил [#insertSource], переоценки роли рационального коллективного признания и «сверхинтеллектуализма» (Gilbert, 1992) и других. Помимо критики внутри философии и социальной онтологии, теория Сёрла подвергалась критике в философии социальной науки — особенно за постулирование примата социальной онтологии над методологией изучения социальной реальности (Kincaid, 2021; Lauer, 2019; Little, 2020; Ross, 2023). Философ Дон Росс различил аналитическую и научную (натуралистическую) социальную онтологию и показал, что только последняя может
Будучи зависящей от понятия коллективных представлений и коллективной интенциональности, теория Сёрла не объясняет их строение и возникновение. Подобную натурализацию его проекта продолжают философы, близкие к эволюционной теории (Gallotti, 2012; Gallotti & Frith, 2013; Tomasello, 2014) и теории «совместного действия» (joint action) в когнитивной науке (Paternotte, 2020; Sebanz & Knoblich, 2021; Török, Pomiechowska, Csibra, & Sebanz, 2019; Vesper et al., 2017). Одна из основных проблем в этом поле — вопрос производности совместной интенциональности от индивидуальной (I-mode vs. we-mode).
Несмотря на большое влияние в социальной онтологии и за её пределами, теория Сёрла — не единственная, что объясняет принудительную силу институтов. Теория игр и её применение к изучению социальных конвенций — настолько же влиятельный подход к объяснению.
Франческо Гуала (Guala, 2016a), синтезурует Льюиса и Серля в теорию правил-в-равновесии (rules-in-equilibria, ПвР). Она описывает социальные институты как равновесные состояния, коррелируемые2 регулятивными правилами вида «если X, делай Y». Например, правило «зелёный свет — иди, красный — стой» коррелирует выбор стратегий между пешеходами и автомобилистами, у каждого из которых есть две условных стратегии — «если красный — стой» и «если зелёный — двигайся». В теории Гуалы, конститутивные правила эпифеноменальны по отношению к регулятивным: между ними нет онтологической разницы, и последние можно описать как первые с помощью простой трансформацией: к паттернам поведения, описываемым регулятивными правилами, добавляется институциональный термин, например, «дорожное движение» (Guala & Hindriks, 2015; Frank Hindriks, 2005).
Так теория ПвР связывает онтологию Сёрла с научными подходами из теории игр без метафизических конструктов вроде конститутивных правил и коллективной интенциональности.
Однако теории Гуалы объясняет только стабильность социальных фактов, а не их возникновение. Мотивируя ПвР, Гуала исходит из недостаточности обоих подходов по отдельности — социальных фактов как правил (J. Searle, 1995) и социальных фактов как равновесий в стратегических играх (Aoki, 2007; North, 1990): первые могут не обладать каузальной силой, а вторые не схватывают специфически человеческих форм координации, поскольку применимы и к животным.
Логичным становится вопрос — если координация людей и животных описывается схожими формальными моделями, откуда и почему возникают правила, стабилизирующие эти равновесия у людей?
Ключ к решению этой проблемы лежит в анализе эволюции устройств корреляции — того, с помощью чего агенты в стратегическом взаимодействии координируют свои действия. Чтобы прояснить, рассмотрим два примера.
Два самца бабочки разрешают конфликт за территорию, координируя поведение на простом физическом сигнале — «кто первым занял место» (Davies, 1978). Их стратегия условна (conditional) и зависит от наблюдаемых признаков среды — наличия или отсутствия оппонента на территории. У каждой бабочки есть две стратегии поведения:
- если я хозяин — борюсь насмерть
- если я захватчик, проявлю агрессию, но если не сработает, отступлю.
Теперь взглянем на людей. Два человеческих племени, разделённые высохшим руслом реки, продолжают соблюдать границу, которая стала абстрактной (Guala & Hindriks, 2015).

Их стратегия также условна, но зависит уже не от физического маркера — высохшего русла реки, а от разделяемого правила — «Если земля находится к югу (или к северу — для другого племени) от русла реки, пасти скот». Хотя эта стратегия связана с высохшим руслом, в ней это русло важно не само по себе, а как средство кодирования информации. Высохшее русло поддерживает (scaffolds) более глубокую эпистемическую структуру, основанную на общем знании (или общей причине полагать) (Lewis, 2008) о том, что это высохшее русло означает. Агенты координируют действия на разделяемом убеждении, а не на физическом маркере. Это устройство корреляции, абстрагированное от физического маркера с помощью когнитивной репрезентации разделяемого правила.
Люди, в отличие от бабочек, могут выбирать, на чем координировать свои действия (Guala & Hindriks, 2015). Это делает природу этих равновесных состояний разной, однако Гуала не объясняет причину этой разницы.
С точки зрения теории игр эти ситуации идентичны. Для их описания подходит одна и та же матрица выигрышей.
Онтологически между ними принципиальная разница: в первом случае координация следует за физической асимметрией среды (кто первым занял место), во втором — за эпистемической структурой разделяемого правила (чья территория, и как высохшее русло дает это понять).
Идентичные матрицы не схватывают разницу в моделях Гуалы и не отвечают на вопрос — если у животных уже есть стабильные равновесия, как и зачем возникают правила? А главное — в чём эволюционное преимущество правил как коррелирующих устройств, если они не влияют на равновесие?
Как пишет Брайан Скирмс, позитивная корреляция стратегий с самими собой — как в обоих примерах с условной стратегией выше — способствуют развитию кооперации и эффективности: «эволюционная динамика реализует дарвиновскую версию категорического императива Канта: поступай так, чтобы если другие ведут себя так же, приспособленность к среде была максимальной» (Skyrms, 2014a, p. 62).
Однако это по-прежнему не объясняет возникновение институциональных фактов из физических: почему в обоих случая есть равновесия, но их онтология разная? Как эволюционно могли возникнуть правила-в-равновесии, если равновесия уже существуют в координации животных?
В данной работе мы утверждаем, что эта разница преодолевается через анализ того, что теоретико-игровые модели принимают как данность и не учитывают в своих моделях — устройств корреляции. Это то, с помощью чего агенты координируют свои стратегии поведения — кто первым занял место в примере бабочек и территориальное правило в примере про племена.
Инструменты теории игр агностичны к природе устройства корреляции — они просто предполагают, что они есть (Vanderschraaf, 1995). Однако если рассмотреть формулы теории игр не инструментально, — агностично к их референтам в мире — а онтологически — как имеющие референты в мире, мы увидим разрыв именно в природе устройств корреляции.
В данной работе мы утверждаем, что этот разрыв можно преодолеть с помощью экологического механизма когнитивной эволюции.
Если равновесные состояния отражают реальные состояния мира — состояния популяций животных и людей и их физических сред, то устройства корреляции — это реальные объекты. Проблема теперь заключается в том, как устройства корреляции стали абстрактными, перейдя от физических свойств среды вроде «размера оппонента» или «очередности» к эпистемическим конструкциям — разделяемым правилам с нормативной и каузальной силой. Оба типа устройств корреляции реальны и обладают каузальной силой. Однако один из них — физический, а второй — эпистемический. И эволюционный переход между ними возможен благодаря экологической динамике.
Переход от простых сигналов среды вроде «уже занятого места» к репрезентируемым правилам представляет собой коэволюционный процесс, в котором материальные артефакты кодируют информацию и выступают когнитивными опорами (scaffolds), а возникающие правила приобретают каузальную силу через свою адаптивную функцию в среде — координировать действия для достижения целей выживания (Harms, 2004; millikan1984?). Социальное конструирование и правила в ПвР возникают как постепенное усложнение корреляционных механизмов под давлением дарвиновского отбора, а их реальность оказывается производной от их стабильной каузальной роли в системе «агент-среда».
Как мы будем утверждать вслед за Кимом Стерельны (Sterelny, 2003) и Питером Годфри-Смитом (Godfrey-Smith, n.d.; Planer & Godfrey‐Smith, 2021), растущая информационная сложность среды эволюционно создавала давление отбора на агентов, вынуждая их развивать когнитивные способности для представления более абстрактных характеристик среды, поскольку это влияло на их способность к успешному решению проблем координации, от которого во многом зависело выживание. С помощью таких абстрактных репрезентаций и давления, создаваемого ими, появлялись новые способы координации, которые и привели к появлению объективности и обязательности социальных фактов.
Данная работа занимает сторону научной социальной онтологии (Ross, 2023), которая исходит не из априорных концептов, а из логики вывода к наилучшему объяснению (IBE) (Guala, 2016b). Онтология служит не предпосылкой, как в аналитическом подходе, а результатом исследования, выводясь из теорий, которые наилучшим образом объясняют наблюдаемые феномены.
Мы предлагаем механистический взгляд на возникновение каузальности социальных фактов из простых стратегических взаимодействий животных с их средой:
- Агенты без способности к репрезентации взаимодействуют друг с другом в популяциях и координируют поведение на физических маркерах вроде «размер оппонента»
- Со временем взаимодействие агентов оставляют следы в окружающей среде
- Следы создают новую информационную структуру среды, которая делает существующие способы координации неэффективными
- Возникает эволюционное давление на когнитивное усложнение агентов для распознавания новых сигналов как устройств корреляции
- Благодаря рекурсивной динамике, агенты постепенно развивают способность ко всё более абстрактному представлению следов среды, что в итоге позволяет им координировать поведение на основе разделяемых представлений.
Мы покажем, как этот экологический механизм завершает картину, предложенную Сёрлом и Гуалой: Сёрл описал онтологию социальных фактов, Гуала — их натуралистическую структуру, а настоящая работа объясняет их естественное возникновение из несоциальных взаимодействий.

Теоретически результаты могут быть интересны исследователям в области философии науки, социальной онтологии, когнитивной науки и теории эволюции. Результаты исследования также могут быть использованы в качестве материалов для курсов по философии социальных наук и социальной онтологии.
🚧 Объект и предмет исследования
Объект диссертационного исследования — онтология социальных институтов.
Предмет исследования — разделяемые агентами репрезентации как источник принудительной (нормативной) силы социальных институтов.
Степень разработанности проблемы
Наш проект носит междисциплинарный характер: он сочетает социальную онтологию, эволюционную теорию игр и философию биологии. Он направлен на то, чтобы внести вклад в натурализацию социальной нормативности, то есть объяснение нормативных феноменов как возникающих в результате естественных процессов без метафизических или интерпретационных представлений. Это согласуется с научно-реалистической перспективой, которая рассматривает социальные виды как реальные сущности, обладающие причинно-следственной связью, поддающиеся эмпирическому исследованию и индуктивному выводу (Guala, 2016b; boyd1999?).
Диссертация отталкивается от классической теории Джона Сёрла и её переосмысления в теории правил-в-равновесии Франческо Гуалы, которая предлагает единую основу для понимания социальных институтов как «коррелированных равновесий» (КР), поддерживаемых условными стратегиями агентов (Guala & Hindriks, 2015). Однако теория Гуалы, несмотря на свою концептуальную силу, во-первых, редуцирует конститутивные правила и социальную казуальность до понятия «социального института», а во-вторых не говорит, как равновесия и лежащие в их основе условные стратегии развиваются из простых форм координации, наблюдаемых у животных, в более сложные. Для устранения этого пробела необходимо объединить идеи эволюционной теории игр и философии биологии, касающиеся когнитивной эволюции, чтобы проследить эволюционное возникновение эпистемической агентности, опосредованной убеждениями.
Настоящая диссертация развивает проект Гуалы, явно моделируя эволюционный путь от координации на основе простых физических сигналов к возникновению несвязанных, подобных убеждениям представлений правил, в соответствии с которыми действуют агенты. Опираясь на теорию игр (Skyrms, 1994, 2010) и философию биологии (Godfrey-Smith, 2002; Planer & Godfrey‐Smith, 2021; Seitz, 2020; Sterelny, 2003, 2012a, 2021) в диссертации показано, как агенты эволюционируют, чтобы выводить скрытую структуру своей среды, вырабатывать расцепленные (decoupled) репрезентации и, в конечном итоге, координировать действия на основе общих нормативных правил. Этот подход подтверждает утверждение Гуалы о том, что правила являются когнитивными представлениями о равновесии, но, демонстрирует, как такие представления могут развиваться из ненормативных источников, а не предполагаться или навязываться внешними корреляционными механизмами.
Кроме того диссертация отвечает на критику теории Гуалы о том, что она чрезмерно экстерналистская (Roversi, 2021) или недостаточно учитывает материальную и психологическую реальность институтов (Rabinowicz, 2018).
Начиная с основополагающих моделей координации Дэвида Льюиса (Lewis, 2008), Брайана Скирмса (Skyrms, 1994, 2010) и других, и расширяя исследование теоретико-игровой социальной онтологии Гуалы, анализ приводит к проведению принципиального различия между онтической корреляцией стратегий — когда физические маркеры среды становятся источником сигнала, и эпистемической корреляцией — когнитивными процессами, основанными на представлениях, которые позволяют агентам интерпретировать социальные сигналы и реагировать на них. Формально это одно и то же, поскольку агенты по-прежнему используют стабильные и оптимальные условные стратегии, но «скрыто» то, что представляет собой природа механизма корреляции, сигнализирующего каждому игроку о предпочтительной стратегии.
Наш проект решает три задачи:
В области натуралистической социальной онтологии мы показываем возможное решение проблемы конститутивных правил, описанной Джоном Сёрлом — как можно быть эпистемологически объективным по поводу онтологически субъективных вещей вроде социальных фактов (J. Searle, 1995). Эту же проблему решает Франческо Гуала в своей теории правил-в-равновесии (rules-in-equilibria, RiE) (Guala, 2016a). Однако, как мы покажем, он смешивает представления об агентности из классической и эволюционной теории игр. Наше решение показывает, что конститутивные правила вида «X считается Y в контексте C» — это не просто лингвистически трансформированные регулятивные правила вида «Если видишь X, делай Y» (Frank Hindriks, 2005), а результат кодирования информации из окружающей среды (как протоптанная тропинка, которую мы упоминали выше). Мы показываем возможный эволюционный механизм преобразования регулярностей поведения в нормативно-нагруженные правила, обладающие принудительной силой.
В социальной онтологии мы предлагаем механистический подход, которые укрепляет социальные институты как естественные виды 3. Существующие исследования, моделирующие эволюцию социальных институтов (Bowles, Choi, & Hopfensitz, 2003; Guala, 2016a; Skyrms, 2003, 2014a), не включают когнитивный реализм — адекватные реальности механизмы когнитивной эволюции как предпосылки возникновения социальной каузальности и социальных институтов — масштабируемых нормативно-ориентированных практик (Aoki, 2007, 2011; Frank Hindriks & Guala, 2015). Мы подробно обсуждаем и моделируем когнитивную эволюцию социальных институтов и показываем, как возможны онтологические эффекты от взаимодействия когнитивных способностей агентов с их средой.
В философии социальных наук мы предлагаем онтологические ограничения социологической теории,способствующие аналитическим базовым концепциям, независимым от эпистемологической оптики.
Главный исследовательский вопрос текущей диссертации — как когнитивная архитектура, лежащая в основе нормативного поведения, требующая сложных репрезентативных способностей, могла развиться из более простых репрезентативных систем и форм социальной координации?
🚧 Цели и задачи исследования
Главная цель данной диссертации — дать натуралистическое объяснение возникновения принудительной силы социальных фактов. Эта цель обусловлена признанием того, что существующие теории либо предполагают развитые когнитивные способности вроде коллективной интенциональности (Bratman, 2022; Gallotti, 2012; J. Searle, 1995), либо трактуют нормы как социальные конструкты ex nihilo.
Более конкретно, исследование направлено на:
Тщательное изучение взаимосвязи между социальными конвенциями и нормативностью для более чёткого определения различий в теории Гуалы.
Проанализировать теорию Гуалы с эпистемологической точки зрения, чтобы выявить противоречия, скрывающие вопрос о различных когнитивных архитектурах внутри его теории.
Описать различные когнитивные архитектуры, предполагаемые теорией Гуалы, и прояснить возможные эволюционные пути их соединения.
Прояснить концептуальную связь между механизмами реактивной координации и эпистемическими стратегиями, опосредованными убеждениями.
Поместить эти результаты в рамки теории правил равновесия Гуалы, тем самым обеспечив натуралистическую основу для описываемых ею институтов.
Связать результаты с дискуссиями о метафизике социальных видов и философии социальных наук.
Теоретическая основа исследования
Данная диссертация опирается на междисциплинарную теоретическую базу, охватывающую социальную онтологию, философию науки, эволюционную биологию и когнитивную науку. Ключевые компоненты включают в себя:
Теория правил равновесия Гуалы: Концепция Гуалы предлагает философски обоснованное описание социальных институтов как целостного мира (CE), поддерживаемого условными стратегиями агентов (Guala & Hindriks, 2015). Интегрируя нормативные и каузальные аспекты институтов, эта теория стремится создать лаконичную натуралистическую онтологию социального порядка, которая избегает принятия метафизически нагруженных конститутивных правил или коллективной интенциональности за примитивы. Настоящее исследование опирается на эту базу, исследуя эволюционное происхождение условных стратегий, поддерживающих это равновесие.
Эволюционная теория игр: Формальное моделирование стратегических взаимодействий и их эволюции во времени является центральным элементом данного исследования. Основополагающие работы Lewis (2008), Maynard Smith (1982), Skyrms (2010) и Gintis (2009a) продемонстрировали, как сотрудничество и
Координация может возникать в ходе эволюционных процессов. Данная диссертация развивает эти идеи, уделяя особое внимание эволюции эпистемических, опосредованных убеждениями стратегий от реактивных, используя когнитивную энтропию в качестве аналитического инструмента.
Философия биологии: Понимание эволюции внутренних представлений и систем убеждений критически важно для различения реактивных и эпистемических стратегий. Стерелни (2003, 2012a, 2021) подчеркнул роль несвязанного представления в когнитивной эволюции человека. Телеосемантическая теория Милликена (millikan1984?) предлагает натуралистическое описание ментального представления, основанного на биологической функции, что служит основой для теории Стерелни. Другим важным источником является Тезис о сложности окружающей среды Годфри-Смита (Godfrey-Smith, n.d.; Godfrey-Smith, Sternberg, & Kaufman, n.d.), где утверждается, что сама функция познания заключается в навигации в информационно насыщенной среде и создании адаптивного покоя, повышающего собственную приспособленность. Эти перспективы формируют концептуализацию эпистемических обусловленных стратегий как опосредованных убеждениями в данной диссертации.
Социальная онтология и философия социальных наук: Метафизические и нормативные последствия рассмотрения социальных конвенций как естественных понятий отражены в работах Бойда (boyd1999?), Сёрла (1995) и современных дискуссиях о натурализации нормативности. Обобщённая теория Гуалы служит отправной точкой для определения текущего исследования в контексте текущих философских дискуссий, выступая в качестве «центрального узла» и синтезируя основные результаты, полученные в рамках различных разделов философии науки.
Ранняя основополагающая работа Льюиса (2008) представила теоретико-игровую формализацию социальных соглашений как стабильных взаимовыгодных поведенческих моделей, подчеркивая, как координационное равновесие возникает в результате повторяющихся взаимодействий. Скирмс расширил эту концепцию, включив эволюционную динамику, продемонстрировав, как популяции агентов могут вырабатывать стабильные соглашения посредством процессов отбора, приводящих к выгодным соглашениям о социальных контрактах Skyrms (2010). Эти модели успешно объясняют возникновение координации, но часто подвергаются критике за исключение нормативности конвенций из области их объяснения и опору на когнитивно неправдоподобных агентов с идеализированными предположениями о рациональности (Gilbert, 1992; Hédoin, 2021; Sterelny, 2012b).
Теория Гуалы «правил в равновесии» (Guala & Hindriks, 2015) представляет собой значительный прогресс, интегрируя нормативные и каузальные аспекты социальных конвенций с классической социальной онтологией Сёрла (J. Searle, 1995). Как уже упоминалось, предлагая мощную интергартивную модель социальной онтологии, теория Гуалы не объясняет эволюционные и когнитивные механизмы возникновения условных стратегий. Этот пробел побудил последующие исследования, изучающие натуралистические основы социальных институтов (Hédoin, 2021). Мы подробно проанализируем теорию Гуалы в главе 2, обращая внимание на проблемы смешения моделей агентства, подразумеваемых в его аргументах, и смешения понятий репрезентации, которые он использует для разграничения социальной координации животных и человека.
Параллельные разработки в когнитивной науке и философии биологии подчеркнули важность эпистемических способностей, таких как нескоординированное представление. Эти подходы подчёркивают, что протонормативность включает в себя не только поведенческую координацию, но и внутренние состояния – убеждения и намерения, – опосредующие социальное взаимодействие (Sterelny, 2021). Тем не менее, эволюционный переход от реактивного, движимого стимулами поведения к эпистемическим, опосредованным убеждениями стратегиям остаётся недостаточно изученным. Мы рассмотрим теории когнитивной эволюции (Godfrey-Smith, n.d.; Millikan, 1987; Sterelny, 2003, 2012a) и построения когнитивных ниш (Bardone & Magnani, 2007; Odling-Smee, Lala, & Feldman, 2003; Planer & Godfrey‐Smith, 2021) в главе 3, где рассмотрим их в связи с первой попыткой Гуала использовать аргументы Стерелни в пользу разобщённого представления для обоснования различий в координации у животных и человека (F. Hindriks & Guala, 2015).
Методология исследования
Методология, использованная в данном исследовании, является междисциплинарной и сочетает:
Сравнительный теоретический анализ: существующие модели возникновения социальных норм, включая сигнальные игры Льюиса, эволюционные модели Скирмса и работы Ullmann-Margalit (1977), Young (1998), Epstein & Axtell (1996), Bicchieri (2005), Gintis (2009b) и теорию правил равновесия Гуалы (Guala, 2016b), систематически сравниваются и критикуются. Этот сравнительный подход выявляет сильные стороны, ограничения и пробелы, которые стремится устранить настоящее исследование.
Теоретико-игровое моделирование: опираясь на основополагающие работы по эволюционной теории игр (Maynard Smith, 1982; Skyrms, 1994), в диссертации описывается формальная модель «Ястреб-Голубь-Буржуа», через призму которой анализируется проблема корреляции стратегий. Она позволяет обнаружить различение онтической и эпистемической корреляции и служит основанием для дальнейшего моделирования в будущих исследованиях.
⏳ Новизна исследования
🚧 Положения, выносимые на защиту
Эпистемические условные стратегии, опосредованные убеждениями и зависящие от внутренних убеждений агентов о поведении других, могут эволюционировать из реактивных, неэпистемических условных стратегий, основанных на асимметрии окружающей среды, посредством механизма обратной связи между средой и когнитивными способностями агентов.Этот эволюционный переход обеспечивает натуралистическую основу для принудительной силы социальных фактов.
⏳ Основное содержание работы
Глава 1. Проблема принудительной силы институтов в социальной онтологии
В первой главе диссертации описывается проблема, — откуда исходит принудительная сила социальных институтов, а также рассматриваются её ключевые решения — традиция социальной онтологии Джона Сёрла и его последователей (Bratman, 2022; Gilbert, 1992; J. Searle, 1995, 2010; Tuomela, 2013), традиция теоретико-игрового анализа социальных конвенций Дэвида Льюиса (Gintis, 2009b; Lewis, 2008; Vanderschraaf, 1995), институциональной экономики (Aoki, 2007, 2011; North, 1990; acemogly2005?), а также синтез этих традиций в унифицированной социальной онтологии правил-в-равновесии Франческо Гуалы (Guala, 2016a; Guala & Hindriks, 2015) и его критику (Hédoin, 2021; Rabinowicz, 2018; J. R. Searle, 2015; Vanderschraaf, 2017).
Результат первой главы — формулировка проблемы диссертации: способна ли синтетическая онтология Франческо Гуалы объяснить принудительную силу социальных институтов? И если нет, то как может быть устроена такая непротиворечивая синтетическая социальная онтология?
1.1 Институты как правила: деонтическая сила из коллективной интенциональности
В параграфе 1.1 описывается теория конститутивных правил Джона Сёрла (J. Searle, 1995, 2010) и традиция, следующая из его идей.
1.1.1 Теория конститутивных правил Джон Сёрла
В 1.1.1 описывается теория Сёрла, её основные компоненты и её объяснение принудительной силы институтов: различение конститутивных и регулятивных правил, понятия деонтической силы, коллективной интенциональности, фоновыж ожиданий.
1.1.2 ✅ Традиция Сёрла: «Стандартная модель» социальной онтологии
Описывается «Стандартная модель» социальной онтологии: её компоненты и представители, а также отношение этих теорий к проблеме источника принудительной силы социальных институтов. Рефлексивность, перформативность…
1.1.3 Критика теории Сёрла
Слабая сторона теории Сёрла — недостаточное объяснение стабильности институциональных фактов: откуда возникает и почему соблюдается принудительная сила конститутивных правил. Для Сёрла ответ — в «фоновых» неосознаваемых когнитивных процессах.
1.2 Институты как равновесия в теории игр: устойчивость из рациональности агентов
Описывается теоретико-игровая традиция институтов как равновесий и базовые понятия теории игр, используемые в данном исследовании.
1.2.1 ✅ Понятия теории игр
Game theory is a mathematical framework used to analyze situations of strategic interaction between rational decision-makers. Originally developed by John von Neumann and Oskar Morgenstern in their seminal work Theory of Games and Economic Behavior (morgenstern1944?), game theory has since evolved to encompass a wide range of applications in economics, biology, political science, and sociology (Gintis, 2009a; osborne2004?). It provides the tools to study how individuals or groups make choices when their outcomes depend not only on their own decisions but also on the decisions of others. The fundamental building blocks of game theory are games, players, strategies, payoffs, and equilibria (Zamir, Maschler, & Solan, 2013).
A strategic game in game theory is defined as a formal model \(G = (N, S, P)\) where:
- \(N\) is a set of players
- \(S = (S_1, S_2, \dots, S_n)\) is strategy sets of each player, where \(S_i\) is the set of strategies available to player \(i\)
- \(P = (P_1, P_2, \dots, P_n)\) specifies the payoff functions, where \(P_i: S_1 \times S_2 \times \dots S_n \rightarrow \mathbb{R}\) gives the utility for player \(i\) given the chosen strategy profile (myerson1991?).
A strategy \(s_i \in S_i\) is a complete plan of action a player will follow in any situation they might face within the game. Payoffs represent the rewards or utilities that players receive based on the combination of strategies chosen by all involved.
One of the central concepts in game theory is equilibrium, where no player has an incentive to unilaterally change their strategy given the strategies of others. The most well-known equilibrium concept is the Nash equilibrium (NE), introduced by John Nash in the early 1950s (nash1950?). A strategy profile \((s_1^*, s_2^*, \dots, s_n^*)\) forms a Nash equilibrium if for every player \(i\), the following condition holds:
\[ P_i(s_i^*, s_{-i}^*) \geq P_i(s_i, s_{-i}^*) \quad \forall s_i \in S_i. \]
Here,
- \(P_i\) is a payoff function for player \(i\)
- \(s_i^*\) is a strategy chosen by player \(i\) at equilibrium
- \(s_{-i}^*\) is a combination of strategies chosen by all other players except player \(i\)
The inequality states that player \(i\) cannot increase their payoff by unilaterally changing their strategy from \(s_i^*\) to any other available strategy \(s_i\).
Shortly after Nash’s work, Robert Aumann introduced the concept of correlated equilibrium (CE) in 1974 (Aumann, 1974). This generalization of Nash equilibrium allows players to coordinate their strategies through signals from a trusted mediator. Unlike Nash equilibrium, where players act independently, CE enables communication or correlation of strategies, capturing coordination through shared information. In a CE, a random signal suggests a strategy to each player, and players follow the recommendation if it is in their best interest to do so. Formally, a correlated equilibrium satisfies:
\[ \sum_{s'_{-i}} q(s_i, s'_{-i}) \cdot [P_i(s_i, s'_{-i}) - P_i(s'_i, s'_{-i})] \geq 0 \quad \forall s_i, s'_i. \]
Here,
- \(q(s_i, s'_{-i})\) represents the probability that the mediator recommends strategy \(s_i\) to player \(i\) and \(s'_{-i}\) to the other players
- \(P_i(s_i, s'_{-i})\) is the payoff to player \(i\) when they play \(s_i\) and the others play \(s'_{-i}\)
The inequality ensures that the expected payoff from following the recommendation is at least as great as from deviating.
As Roger Myerson has reportedly observed,
“If there is intelligent life on other planets, in a majority of them, they would have discovered correlated equilibrium before Nash equilibrium” (Solan & Vohra, n.d.).
CE can be a more natural concept than Nash equilibrium, as its mathematical simplicity and reliance on cooperation make it easier to discover. Myerson argued that humanity’s prioritization of Nash equilibrium may have been an accident of history rather than a reflection of its fundamental importance. In societies or civilizations where cooperative behavior is emphasized or external mediators are prevalent, CE could emerge as a more intuitive starting point for understanding strategic interactions.
In the realm of evolutionary biology, John Maynard Smith introduced the concept of evolutionarily stable strategy (ESS) in 1973 (maynard1973?). An ESS is a strategy \(s^*\) that is robust against invasion by mutant strategies and satisfies the following condition:
\[ P(s^*, s^*) > P(s', s^*) \quad or \quad [P(s^*, s^*) = P(s', s^*) \quad and \quad P(s^*, s') > P(s', s')]. \]
Here,
- \(P(s^*, s^*)\) is the payoff when both the incumbent and the invader use strategy \(s^*\).
- \(P(s', s^*)\) is the payoff when the invader uses strategy \(s'\) while the incumbent sticks to \(s^*\).
Beyond Nash, CE and ESS, game theory has explored other equilibrium concepts, including subgame perfect equilibrium, trembling hand perfect equilibrium, and proper equilibrium, among others. These refinements address limitations of the NE, particularly in dynamic and extensive-form games. We will only focus on CE and ESS in the current thesis.
Coordination and cooperation problems are fundamental challenges in social philosophy since Hobbes (2016), and game theory has been an indispensable tool for tackling these problems due to its clarity and rigor.
Coordination problems arise when individuals or groups need to choose between multiple possible equilibria, creating ambiguity about which solution will be selected. These problems are central to strategic interaction because they reflect situations where all parties would benefit from making compatible choices but may struggle to agree on a single option.
Cooperation problems, on the other hand, highlight the conflict between individual rationality and collective benefit, where mutual cooperation yields a better outcome for all, but self-interest may lead to suboptimal results. Such challenges often require mechanisms to facilitate coordination or encourage cooperation, including social conventions or equilibrium selection techniques. Consequently, equilibrium concepts are fundamentally linked to coordination and cooperation problems because they model how rational agents arrive at stable solutions given others’ strategies.
Examples of coordination and cooperation problems include classic games like the Battle of the Sexes and the Prisoner’s Dilemma. In the former, a husband and a wife coordinate on choosing a leisure activity where everyone is satisfied with the choice, and in the latter, two prisoners independently either defect or cooperate with each other by uncovering their partner in crime to an officer. The payoff matrices of these games are shown below4.
These matrices model real-world problems such as social dilemmas and negotiations. For instance, the Battle of the Sexes often represents situations where partners must choose between competing preferences, while the Prisoner’s Dilemma models the challenge of mutual cooperation versus self-interest in scenarios like arms races or public goods provision.
To illustrate the practical difference of equilibrium concepts in solving coordination problems, let us consider the Battle of the Sexes with pure Nash, mixed Nash and CE.
In pure Nash, two pure strategy equilibria exist: both players attend either Ballet or Football. These equilibria ensure perfect coordination but are inherently unfair, as one player always prefers the chosen event over the other.
A mixed strategy Nash equilibrium also exists, where players randomize their choices independently, but it risks miscoordination. Let the Husband choose Ballet with probability \(p\) and Football with \(1-p\), and let the Wife choose Ballet with probability \(q\) and Football with \(1-q\). Using the indifference principle according to which a player randomizes her strategies in a way that the opponent is indifferent between their own available strategies, we calculate probabilities:
For the Husband to be indifferent, the Wife’s mixed strategy must make his expected payoff from Ballet equal to that from Football: \[2q + 0(1-q) = 0q + 1(1-q) \implies 2q = 1 - q \implies q = \frac{1}{3}\]
For the Wife to be indifferent, the Husband’s mixed strategy must make her expected payoff from Ballet equal to that from Football: \[1p + 0(1-p) = 0p + 2(1-p) \implies p = 2(1-p) \implies p = \frac{2}{3}\]
Thus, in the mixed strategy Nash equilibrium:
- The Husband chooses Ballet with probability \(p = \frac{2}{3}\) and Football with \(1-p = \frac{1}{3}\).
- The Wife chooses Ballet with probability \(q = \frac{1}{3}\) and Football with \(1-q = \frac{2}{3}\).
The expected payoffs for both players in this equilibrium are:
Husband: \[ \begin{aligned} \text{E}[U_H] &= p \times q \times u_H(\text{Ballet, Ballet}) + p \times (1 - q) \times u_H(\text{Ballet, Football}) \\ &\quad + (1 - p) \times q \times u_H(\text{Football, Ballet}) + (1 - p) \times (1 - q) \times u_H(\text{Football, Football}) \\ &= \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times 2 + \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times 0 + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times 0 + \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times 1 \\ &= \frac{4}{9} + 0 + 0 + \frac{2}{9} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3} \end{aligned} \]
Wife: \[ \begin{aligned} \text{E}[U_W] &= p \times q \times u_W(\text{Ballet, Ballet}) + p \times (1 - q) \times u_W(\text{Ballet, Football}) \\ &\quad + (1 - p) \times q \times u_W(\text{Football, Ballet}) + (1 - p) \times (1 - q) \times u_W(\text{Football, Football}) \\ &= \frac{2}{3} \times \frac{1}{3} \times 1 + \frac{2}{3} \times \frac{2}{3} \times 0 + \frac{1}{3} \times \frac{1}{3} \times 0 + \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} \times 2 \\ &= \frac{2}{9} + 0 + 0 + \frac{4}{9} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3} \end{aligned} \]
This mixed strategy equilibrium represents a compromise balancing fairness and coordination through randomization, albeit less efficient than pure Nash equilibria due to inherent miscoordination risks5.
In contrast, CE utilizes public signals to coordinate actions effectively. For instance, a public signal such as a coin flip can recommend both players attend Ballet or Football equiprobably. This mechanism eliminates miscoordination and ensures equal expected payoffs for both players (\(1.5\) each). CE helps agents achieve higher payoffs and fairness compared to both pure and mixed Nash equilibria by leveraging shared randomness or communication.
To demonstrate how a signal affects the payoff structure, we add a new strategy Follow Signal (FS), where players choose based on a fair coin flip (Heads = Ballet, Tails = Football). We can do this because CE is essentially a Nash equilibrium of a game augmented with an additional set of strategies (Gintis, 2009b, 2009a). The payoffs here depend on actual coordination, not just expectations: we can calculate expected payoffs when one player uses \(FS\) and the other does not.
- FS (H) vs Ballet (W):
- Signal = Tails (50%): H chooses Football, W stays at Ballet → \((0, 0)\)
- Expected payoff: \(0.5 \times (2, 1) + 0.5 \times (0, 0) = (1, 0.5)\)
- FS (H) vs. Football (W):
- Signal = Heads (50%): H chooses Ballet, W stays at Football → \((0, 0)\)
- Signal = Tails (50%): Both choose Football → \((1, 2)\)
- Expected payoff: \(0.5 \times (0, 0) + 0.5 \times (1, 2) = (0.5, 1)\).
Thus, the augmented game matrix becomes:
The strategy profile of \((FS, FS)\) represents a Nash equilibrium because neither player has an incentive to deviate. If a Husband switches to Ballet, he would only receive \(1\), a decrease from his current payoff of \(1.5\) when the Wife remains at \(FS\). Similarly, if the Wife switches to Football, she would receive only \(1\), a decrease from her current payoff of \(1.5\) when the Man stays at \(FS\). Since no profitable deviation exists for either player, the strategy profile \((1.5, 1.5)\) is stable. Thus, the CE strategy is as an NE strategy of an augmented game. The difference is that CE are simpler to compute than NE and model real-world scenarios where external signals (e.g., traffic lights) guide decisions. In summary, CE expand the solution space of a game, offering improvements over Nash equilibria when players can leverage a coordination device.
Getting back to coordination problems, O’Connor (2019) distinguishes two classes of them:
- correlative problems (same choice to coordinate)
- complementary problems (different choices to coordinate)
In correlative coordination problems, agents need to converge on the same choice to coordinate successfully. For example, consider a driving game, where two players drive towards each other and each can choose the left or right side to drive on. If they both are on the same side and no one swerves, they might crash, and if each of them chooses a different side, they will stay safe. One important feature of this and other coordination problems is arbitrariness, meaning that it does not matter on what side both players would converge. Instead, what matters is that they either coordinate by choosing the same action, for example, swerving to the right.
On the game matrix, it is represented as two non-unique equilibria. It means that either of them solves the coordination problem.
Complementary coordination problems, as opposed to correlative ones, require from agents different actions, or strategies, to coordinate successfully. As O’Connor (2019) points out, division of labor or resources is an example of this class of games. For instance, two roommates want to organize a party and invite guests. To proceed, they need to tidy up the house and order pizza delivery. If they both do the cleaning, there will be no food when the guests come, and if they both order pizza delivery, they will have plenty of food but be embarrassed by the mess at the house.
The only difference between the two classes of coordination problems is either choosing same or different actions to coordinate successfully.
Coordination problems and conventions are intrinsically linked as former ones emerge when individuals or groups require aligned action for mutual benefit, necessitating communication and shared understanding to stabilize interactions. Conventions function as a mechanism for predictable coordination by encapsulating mutual expectations, thereby reducing ambiguity and establishing stable behavioral patterns within a social context. David Lewis’s theory of conventions as coordination equilibria, explored in the subsequent section, provides a central treatment of this relationship.1.2.2 ✅ «Конвенция» Дэвида Льюиса
1.2.3 ✅ Традиция: Шеллинг, Скирмс, Вандершрааф, Гинтис, Гуала
1.2.4 Критика традиции: выхолащивание нормативности, экономический империализм
1.3 ✅ Синтез и его амбивалентность: теория «правил-в-равновесии» Франческо Гуалы
Описывается теория правил-в-равновесии (ПвР) Франческо Гуалы, её критика со стороны коллег, а также критика автора, направленная на лакуны в аргументации и, следовательно, нелегитимные теоретические выводы ПвР.
1.3.1 Теория правил-в-равновесии
Гуала утверждает, что для объяснения стабильности нужно понятие равновесия из теории игр. Гуала рассматривает большой пласт литературы об институтах как равновесиях и «когнитивных медиа», экономящих мышление. Он предлагает унифицированную социальную онтологию, объединяющую натуралистический проект и интуиции Сёрла с теоретико-игровыми подходами к конвенциям.
1.3.2 Критика теории правил-в-равновесии
Теория Гуалы недостаточно проработана — её критикуют с разных сторон: за отсутствие механизма самокорректировки равновесий (Vanderschraaf, 2017), за излиший экстернализм, за неправильный выбор концепции равновесия, за излишнюю инструментализацию и выхолащивание нормативности (F. Hindriks, 2019).
1.3.3 Глубокая проблема: соотношение правил и равновесий
Корень проблемы, по моему мнению, глубже — в отношении между правилами и равновесиями в теории Гуалы. Аргументируя унификацию институтов как правил и равнвовесий, Гуала исходит из недостаточности каждого элемента по отдельности: правила могут не иметь принудительной силы и не соблюдаться, а равновесия описывают слишком большой класс феноменов — например, решение территориальных споров у животных (Frank Hindriks & Guala, 2015).
Решение Гуалы — приравнять регулятивные правила вроде «стой на красный, иди на зеленый» к условным стратегиям агентов в играх. Точнее, он говорит, что это два взгляда на одну и ту же сущность: с точки зрения действующего агента это правила, а с точки зрения наблюдателя — условные стратегии, ведущие к коррелированному равновесию (Guala & Hindriks, 2015). Правила, по утверждению Гуалы, «неотъемлемы для достижения равновесий, формирующих институты» (Frank Hindriks & Guala, 2015, p. 463), то есть логически им предшествуют. Однако в другом месте Гуала говорит, что правила — это «репрезентации стратегий <…>, которым должно (ought) следовать в игре» (Frank Hindriks & Guala, 2015, p. 467). При этом долженствование (принудительный характер институтов) следует из инструментальной рациональности коррелированного равновесия — игрокам не выгодно отклоняться от стратегии, предложенной устройством корреляции. Сам Гуала признаёт, что это «слабая нормативность» инструментальной рациональности, а не деонтические силы в полной мере, как это есть у Сёрла (Guala & Hindriks, 2015).
Иначе говоря, теория Гуалы создаёт круг в определении: правила помогают агентам достичь равновесий и одновременно репрезентируют уже существующие стратегии, которым необходимо следовать в игре, а нормативность возникает из равновесия. Неясно, что онтологически первично — правила или равновесия, и откуда и почему возникает нормативность. Всё это затрудняет определение онтологии социального института.
Во второй главе я подробно рассматриваю отношение между правилом и равновесием в теории Гуалы.Глава 2. Анализ теории правил-в-равновесии: круг в определении, подмена объясняемого и допущение о полноте информации
2.1. Круг в определении: институт как скрытая предпосылка института
Описывается ключевая проблема теории Гуалы: институт как правило-в-равновесии требует существования готовой конвенции, решающей конфликт.
2.1.1 Сравнение несравнимых игр (в принципе можно убрать)
- Гуала сравнивает разные игры:
- эволюционную игру с рациональной, беря за основу
Ястреб-Голубь-Буржуа Мейнарда Смита. Они имеют разные допущения:
- об агентах: фенотипы и индивиды
- об источнике корреляции стратегий: экзогенная (внешняя) и эндогенная (зависит от истории)
- о концепции устойчивости: ЭСС у Мейнарда Смита (а не КР) и КР у Гуалы
- эволюционную игру с рациональной, беря за основу
Ястреб-Голубь-Буржуа Мейнарда Смита. Они имеют разные допущения:
- Вывод: методологическая неточность как основа аргументации не способствует валидности выводов ПвР
2.1.2 Подмена условной стратегии готовой абстрактной конвенцией
- Даже приняв методологическую разницу игр, мы видим, что Гуала
сравнивает игру с конфликтом с игрой на координацию, не изменяя
матрицы и незаметно устраняя конфликт внутри Ястреба-Голубя:
- Пример с животными (ЯГБ): Чистая игра с конфликтом. Условная стратегия «Буржуа» — это решение, которое предстоит найти в рамках игры. Никаких внешне данных правил нет.
- Пример с людьми («выпас скота»): Гуала описывает это так: «Племена пасли скот по разные стороны реки. Река высохла. Теперь они продолжают пасти скот по воображаемой линии».
- Ключевой момент: Фраза «продолжают пасти» содержит готовую конвенцию. Но откуда она взялась? В момент, когда река высохла, перед племенами встала точно такая же игра с конфликтом, как у животных (ЯГБ за новый ресурс). Гуала пропускает этот момент и начинает анализ с того, что конвенция уже существует.

- Что должно быть объясняемым (explanandum)? Возникновение и устойчивость принудительной социальной структуры (например, границы, права собственности).
- Что Гуала использует как объясняющее (explanans)? Уже существующую, работающую социальную структуру (конвенцию о разделе по реке), которую он встраивает в начальные условия своей модели.
- Итог: Он строит теорию, где институт (как готовая конвенция) является предпосылкой для объяснения института (как устойчивого равновесия). Это логический круг (petitio principii). Он объясняет институт через самого себя. Это фатально, потому что весь пафос Гуалы — показать, как правила и равновесия совместно порождают институты. Но в его ключевом примере правило («паси на своей стороне») не порождается игрой — .оно дано ей изначально как часть истории
- Вывод 1: Гуала не моделирует возникновение института. Он моделирует воспроизводство уже существующего института в слегка изменившихся условиях (река исчезла, но «правило» осталось). Его модель объясняет не «почему есть граница», а «почему сохраняется инерция уже существующей конвенции о границе, если физический маркер исчез». Это другая, более простая проблема.
- Если рассмортреть пример Гуалы с выпасом скота как настоящую ЯГБ (без предустановленной конвенции в виде реки как границы), то там будет и равновесие, и правило — но не в онтологическом смысле уже существующей конвенции, а как условная стратегия.
- Вывод 2: Это ставит под вопрос необходимость правил для определения института. Возможно, правила не необходимы.
2.2. Неустойчивость коррелированного равновесия: правило без санкции в условиях неполной информации
- Рассматривается реалистичная игра ЯГБ без предустановленной конвенции в качестве равновесия
- Находится байесовское равновесие в этой игре с неполной информацией.
- Показывается, что оно отличается от коррелированного равновесия, и что стратегия «всегда посылать сигнал “Владелец” и играть по правилу Буржуа-стратегии» строго выгоднее, чем простая условная стратегия Буржуа.
- Делается вывод, что КР недостаточно для описания института.
Центральный тезис Гуалы — что КР адекватно описывает устойчивость института. Однако это не так, поскольку работает только в случае допущения о полной информации в игре. Чтобы это показать, представляем игры в развернутой форме и находим байесовское равновесие.
Стратегия Буржуа в ЯГБ является КР в игре с полной информацией — если типы игроков наблюдаемы обоими игроками. Чтобы это показать, введём понятия истории игры и информационного множества.
История \(h \in H\) — конечная последовательность ходов (или узлов дерева) игры в развёрнутой форме \(h = (a_1, a_2,\dots, a_k)\). Информационное множество \(I_R\) — это набор неразличимых для получателя историй игры. Если \(|I_R| > 1\), то получатель не знает, в каком узле игры он находится, что усложняет принятие решения. В ЯГБ в примере Гуалы с животными: \[ \begin{gathered} h_1 = \{\theta_1, m_1\} \\ h_2 = \{\theta_2, m_2\} \\ I_R = \{h\} \end{gathered} \] Поскольку \(I_R = 1\) (истории эквивалентны, так как идентичны по форме), получатель сигнала точно знает, в каком узле игры находится.
А в примере Гуалы с племенами: \[I_R(m_1) = \{h, (\theta_2, m_1)\}\]
Тип отправителя неразличим для получателя сигнала — он видит один и тот же сигнал «я владелец» и когда отправитель действительно «владелец», и когда он «чужак», что обозначено на схеме пунктирной линией. Это создаёт неопределённость и лазейку для эксплуатации получателя.
Поскольку получатель не может различить, в каком узле игры находится и кто его оппонент по реальному типу, отправитель сигнала может всегда посылать сигнал «я — владелец», даже не являясь им фактически.
Введём новую стратегию «Блефующий» и рассчитаем средние платежи согласно стандартным условиям игры «Ястреб-Голубь», где стоимость конфликта выше ценности ресурса \(C > V\), и каждый игрок может быть либо захватчиком, либо владельцем (Maynard Smith, 1982):
- Буржуа (B) — честная стратегия:
- Сигналит свой истинный тип.
- На сигнал «владелец» → Голубь.
- На сигнал «захватчик» → Ястреб.
- Блефующий — обманывающая стратегия:
- Всегда сигналит «владелец».
- На сигнал «владелец» → Голубь.
- На сигнал «захватчик» → Ястреб.
Встреча M vs B:
| M тип | B тип | Сигналы | Действия | Платёж M |
|---|---|---|---|---|
| Владелец | Захватчик | (Владелец, Захватчик) | Ястреб, Голубь | V |
| Захватчик | Владелец | (Владелец, Владелец) | Голубь, Голубь | V/2 |
Встреча B vs. B
| B тип | B тип | Сигналы | Действия | Платёж M |
|---|---|---|---|---|
| Владелец | Захватчик | (Владелец, Захватчик) | Голубь, Голубь | V/2 |
| Захватчик | Владелец | (Захватчик, Владелец) | Голубь, Голубь | V/2 |
Средний платёж M: \[ EU(M,B) = \frac12 \cdot \frac{V}{2} + \frac12 \cdot V = \frac{3V}{4} \]
Выигрыш «Блефующего» строго больше выигрыша Буржуа: \(\frac{3V}{4} > \frac{V}{2}\) при \(C > V\) (и, следовательно, \(V - C < 0\)).
- следование правилу (то есть условной стратегии Буржуа в КР) — не лучший ответ. Вместо этого можно сблефовать и получить больший выигрыш
- чтобы условная стратегия стала КР, нужен модификатор платежа для стратегии блефа: Гуала его либо уже предполагает встроенным в игру (делая институт черным ящиком), либо игнорирует:
\[\frac{3V}{4} - \delta \geq \frac{V}{2} \]
Это означает, что санкция за блеф \(\delta\) должна превышать ожидаемую выгоду от блефа, равную \(\frac{V}{4}\). Значит, институт может быть устойчивым даже при малых санкциях, однако КР все равно этого не объясняет.
- Вывод: концепция коррелированного равновесия недостаточна для описания устойчивости института — для нее принципиальна защита от блефа при неполной информации. КР схватывает лишь финальное состояние работающего института в игре с полной информацией. Поэтому нужна нужна динамическая устойчивость равновесия, которая может объяснить, как стратегия может возникнуть и закрепиться через динамический процесс (обучение, имитация, эволюционный отбор).
- Институт в человеческом обществе не может быть смоделирован как коррелированное равновесие в игре с объективными, проверяемыми сигналами (как у Гуалы). Реальный институт — это попытка установить что-то вроде КР в игре со стратегическими, ненадёжными сигналами.
Общий вывод: Теория «правил-в-равновесии» не выполняет своей основной задачи — объяснить принудительную силу институтов. Она либо тавтологична, либо описывает невозможный объект.
Вывод главы: необходимость динамической онтологии, исходящей из до-институционального состояния и не предполагающая существования готовой конвенции, которая интегрирует и равновесия, и правила в смысле Сёрла.
Глава 3. Формальные условия устойчивости института: локальная компенсация блефа и взаимная информация между стратегическими ситуациями
В этой главе мы строим формальную модель игры ЯГБ с неполной информацией и показываем условия динамической (эволюционной) стабильности условной стратегии.
3.1. \(\delta\)-параметр как необходимое условие локальной устойчивости
- Поскольку оригинальная игра ЯГБ уже включает в себя термины «захватчик» и «владелец», которые можно трактовать институционально — как наличие или отсутствие уже закрепленного права собственности, мы начнем с симметричной игры Ястреб-Голубь
- Опираясь на эволюционную динамику Скирмса, мы говорим, что условная Буржуа-стратегия, зависимая от информационной асимметрии (сигнала) появляется в игре как результат адаптации в популяции, даже если агенты не обладают понятием собственности.
- Это позволяет получить понятие коррелированной конвенции. Однако она, как мы показали в прошлой главе, предполагает полноту информации.
- Если убрать полноту информации, Буржуа-стратегия перестанет быть ЭСС
- Так же, как и в главе 2 с КР, здесь возникает необходимость компенсации блефа — дельта-параметр
- Это позволяет нам сказать, что устойчивость института не зависит от конкретного равновесия — и ЭСС, и КР в ЯГБ рушатся при неполной информации. Значит, сущность института — не в равновесии.
Чтобы показать, что стратегия \(B\) (Буржуа с неполной информацией) не является ЭСС, достаточно показать, что существует мутант, у которого платёж против Буржуа выше, чем у Буржуа против себя:
\[\exists\ M : \quad \pi(M,B) > \pi(B,B)\]
Буржуа не различает тип соперника, поэтому платёж стандартный: \[ \pi(B,B) = \frac{V}{2} \] * Владелец получает V с вероятностью ¹⁄₂ * Захватчик получает 0 с вероятностью ¹⁄₂
Берём «блефера», который использует неполную информацию о сигнале:
- Всегда сигнализирует «я — владелец»
- В остальном играет по правилу Буржуа: Голубь на сигнал владельца, Ястреб на сигнал захватчика
\[EU(M,B) = \frac12 \cdot \frac{V}{2} + \frac12 \cdot V = \frac{3V}{4}\]
Выигрыш «Блефующего» строго больше выигрыша Буржуа: \(\frac{3V}{4} > \frac{V}{2}\) при \(C > V\) (и, следовательно, \(V - C < 0\)).
Стратегия Буржуа с неполной информацией не является эволюционно устойчивой, поскольку существует мутантная стратегия, избегающая конфликтов и забираюшая ресурс за счет блефа.
Это означает, что условная стратегия сама по себе не может быть эволюционно стабильной: корреляции стратегий недостаточно для стабильных социальных контрактов — вероятность блефа модифицирует платежи и нарушает равновесие.
Восстановление стабильности требует поддерживающего механизма. Для Гуалы подобный механизм — репрезентация агентом равновесия с помощью регулятивного правила: она мотивирует агента выбрать коррелированную стратегию.
Восстановление эволюционной стабильности условной стратегии возможно благодаря введению параметра, который бы выравнивал платежи стратегий Буржуа и Блефующего:
\[\pi(M, B) - \delta < \pi(B, B)\]
Подобный дельта-параметр можно вывести, определив платежи стратегий Буржуа и блефующего чужака.
Вычтем из выплаты блефующего чужака штраф \(\delta\), применяемый к факту эксплуатации неопределенности, а не к самому конфликту: \[ \pi_{M}^\delta=V-\delta \]
Это означает, что эволюционно стабильное равновесие в условных стратегиях не может существовать в среде с ненулевой вероятностью блефа без модификатора платежей. Введение \(\delta\) делает стратегию Буржуа устойчивой на уровне платежа.
Получаем минимальный модификатор платежа, необходимый для поддержания «очевидности» коррелированной (условной и симметричной) стратегии Буржуа для агента:
\[\delta_{\min }={V}{4}\]
Таким образом, \(\delta\)-параметр — это структурная необходимость для восстановления эволюционной стабильности равновесия в условных стратегиях в ситуации неполной информации — возможности несоответствия сигнала типу игрока-отправителя. Этот параметр восстанавливает стабильность за счёт введения стоимости, независимой от реализации конфликта.3.2. Проблема масштаба: от одной игры к популяции. Параметр \(r\) и надёжность компенсации блефа
- Если положить не одну игру, а несколько идентичных игр, в каждой из которых санкция не гарантирована, то дельты (и ее размера) становится недостаточно
- Если в каждой игре дельта либо применена, либо нет (что выражено бинарной случайной величиной E), то эффективная дельта во всех играх будет \(\delta \cdot \r\), где \(r\) — эмпирическая частота реализации дельты в игре (санкция применена)
- Это позволяет показать, что при низкой надежности компенсации блефа \(r\) во популяции игр Буржуа-стратегия не может быть глобальной ЭСС → равновесие разрушается
Как мы показали в прошлой главе, репрезентация равновесия агентом с помощью регулятивного правила не необходима для поддержания стабильности института. Вместо этого санкция восстанавливает эволюционную стабильность коррелированного равновесия с помощью модификации платежей.
В этой главе я показываю, что институт с модификатором платежа \(\delta\) стабилен только локально, в одной игре, но рушится при наличии множества игр. Это позволит формально отделить институт от протоинститута.
Локальная ESS означает устойчивость стратегии в одной игре \(𝐺_i\). Глобальная устойчивость — в популяции, где много экземпляров игры \(G_N\) происходят в разных местах и моментах. Это пространственная множественность или временная повторяемость:
\[\mathcal{G} = \{G_1, G_2,…,G_N\}\]
Важно, что хотя \(\delta\) — объективный параметр института, его применение в каждой конкретной игре не гарантировано. Санкция может не реализоваться, что аннулирует дисконтирование платежа нарушителя, и он получит платёж \(V\) вместо \(V - \delta\).
Бинарная случайная величина \(E ∈ \{0, 1\}\) определяет, применена ли санкция в конкретной игре: \(1\) означает, что санкция \(\delta\) применена, а \(0\) — не применена. Платежи в локальной игре содержат скрытый параметр \(r \coloneq P(E = 1)\) — объективную вероятность применения санкции. Она означает надёжность механизма принуждения (enforcement), а при рассмотрении популяции игр — частоту реализации санкции в популяции игр. Поскольку в одной локальной игре применение санкции гарантировано (по результатам прошлой главы), то \(r = 1\), поэтому этот параметр скрыт. Однако для популяции игр эффективная санкция будет:
\[\delta_{eff} = 1 \times \delta\]
В популяции игр \(r\) — эмпирическая частота реализации санкции:
\[r = \frac{1}{N} \sum^N_{i=1}E_i\]
Например, есть 5 игр, в трёх из которых санкция была применена: \(E = \{0, 1, 1, 0, 1\}\). Тогда \(r\) по ним будет \(\frac{3}{5} = 0.6\), а эффективная санкция \(\delta_{eff} = 0.6\delta\).
Для глобальной стабильности \((B, B)\) средняя эффективная санкция должна быть выше минимально допустимой:
\[\delta_{eff} = r\delta \geq \delta_{min}\]
Иначе говоря, минимальная частота реализации санкции в популяции игр должна быть:
\[r_{min} = \frac{1}{N} \sum^N_{i=1}E_i = \frac{\delta_{min}}{\delta}\]
Это значение можно назвать порогом институциональности поведенческого паттерна: ниже этого значения применение санкций станет непредсказуемым и институт станет протоинститутом.
3.3. Взаимная информация \(I\) о компенсации блефа как мера связности идентичных стратегических ситуаций
- Для поддержания Буржуа-стратегии как глобальной ЭСС нужен механизм или устройство для повышения надёжности санкции \(r\)
- Функция этого механизма — повышение статистической связности (корреляции) или взаимной информации между фактами применения дельты в каждой из игр. Иначе говоря, нужен канал информации между играми, делающий применение санкции после нарушения предсказуемым.
- Подобный механизм и составляет глубинную онтологическую основу институа.
Повышение надежности санкции (то есть частоты ее применения в играх популяции) требует механизма повышения связности между играми — статистической зависимости фактов реализации санкции. Это можно выразить как снижение дисперсии \(D(r)\), энтропии доставки санкции \(H(r)\) или повышение взаимной информации между двумя случайными играми \(I(E_i, E_j) > 0\). Подобный механизм выравнивает среднее значение санкции \(\delta_{eff}\) в популяции игр.
Иначе говоря, для восстановления глобального равновесия, необходимо, чтобы реализация санкции а одной игре была информативной относительно других и была предсказуемой на уровне системы.
Подобный механизм и составляет глубинную онтологическую основу институа.
Статистическая связь между реализациями санкций в играх популяции — это структура информационного канала между играми, а не модификация платежа или отдельная сущность.
3.4. Формальное определение: институт, протоинститут, конвенция
- Формально, институт в нашей концепции — это сеть дельта-стабилизированных равновесий в условных стратегиях с высокой взаимной информацией.
- Прото-институт (как часть определения института) —
.это равновесие в условных стратегиях (неважно,
коррелированное, байесовское, ЭСС) в расширенной игре с неполной
информацией и конфликтом интересов, которое является
Парето-улучшением по отношению к существующему равновесию в
базовой (не расширенной) игре
- Эквивалентная ситуация — множество игр с таким равновесием, но с низкой взаимной информацией: применение санкции в одной ситуации ничего не говорит об ее применении в другой.
- для существования института нужны:
- ситуация с конфликтом интересов (описываемые играми ЯГБ, дилемма заключенного, битва полов)
- условная стратегия, решающая конфликт и связанная с чистыми стратегиями (а не как у Гуалы)
- \(\delta\)-параметр — модификатор платежа для стратегии, эксплуатирующей условную стратегию
- равновесие в условных стратегиях (неважно, какое)
- множество структурно идентичных игровых ситуаций с равновесием и дельтой
- любой механизм или устройство, повышающий взаимную информацию (или статистическую корреляцию) о применении санкции между игровыми ситуациями
Глава 4. Каузально-информационная онтология института: связная сеть \(\delta\)-стабилизированных равновесий в условных стратегиях
В главе говорится:
- Институт — это набор механизмов, глобально наказывающих эксплуатацию условной стратегии в определенном классе стратегических ситуаций.
- Институт решает две информационных проблемы: компенсация стратегической эксплуатации и масштабирование применения компенсации. Можно объединить в одну задачу — глобальная компенсация стратегической эксплуатации
- Масштабирование существующей санкции — онтологическая суть института. Равновесия с санкцией недостаточно для существования института (это протоинститут).
- Если санкция для компенсации блефа необходима эволюционно в
ситуации неполной информации, то масштабирование этой санкции —
нет.
- Это означает, что в него инвестируют те, кто хотят обладать монополией на дельту (это дает критический угол нашей теории, позволяя смотреть на источники статистической связности санкций)
- И правила, и равновесия не являются онтологически фундаментальными для определения института. Вместо этого, санкция за отклонение от условной стратегии и канал доставки этой санкции между играми — онтологически фундаментальны.
- Правила — удобный язык для описания состояния параметров \(\delta\) и \(I\) в обпределенной сети
стратегических ситуаций, а не онтологически фундаментальный слой
реальности. Однако они полезны как эпистемический «плагин» для
описания
- Конститутивное и регулятивное правило действительно идентичны по форме (как предполагает Гуала), но первое несводимо ко второму. Конститутивное правило — это та же самая условная стратегия в игре с конфликтом интересов и неполной информацией, только ставшая общим знанием в сети игр благодаря высоко взаимной информации \(I\) о применении санкции: «Я знаю, что все знают, что если пришел первым на холм, то можешь пасти стадо, иначе последует рейд от другого племени».
- При достижении высокой взаимной информации о применении санкции между игровыми ситуациями санкция обретает новый смысл — она теперь не за блеф в локальной стратегической ситуации, а за игнорирование общего знания о применении санкции. Это согласуется с идеей Сёрла о деонтических силах конститутивного правила, не противоречит формальной логике нашей модели и реализует интуицию Гуалы о близкой связи конститутивных и регулятивных правил
4.1 Институт и протоинститут: значение параметров \(\delta\) и \(I\)
- Масштабирование существующей санкции — онтологическая суть института.
- Если санкция для компенсации блефа необходима эволюционно в
ситуации неполной информации, то масштабирование этой санкции —
нет.
- Это означает, что в него инвестируют те, кто хотят обладать монополией на дельту (это дает критический угол нашей теории, позволяя эмпирически смотреть на источники статистической связности санкций в конкретном классе ситуаций)
- Если каналы доставки и масштабирования санкции — суть
института, то они должны быть до-институциональными. Они
онтологически примитивны и выполняют одну или несколько функций:
- Социальная память и репутация («В этом племени все знаютб что Х — обманщик»)
- Физическая связанность территории (возможность быстро дойти до нарушителя)
- Наблюдаемость действий (открытая местность, где всё видно)
- Любой механизм или устройство, обеспечивающие одну или больше
функций (память, физическая доступность, наблюдаемость), может
служить эмпирическим каналом «доставки» санкции.
- Каналы доставки санкции являются интерсубъективно
интерпретируемыми материальными носителями или социальными
технологиями (все знают, что они кодируют дельту):
- Физические артефакты: дорожные знаки, униформа, печати, камеры, стены, оружие.
- Социальные технологии: ритуалы, процедуры, публичные казни, формализованные речи (клятвы, приговоры).
- Символические системы: письменные кодексы, базы данных, репутационные рейтинги.
- Каналы доставки санкции являются интерсубъективно
интерпретируемыми материальными носителями или социальными
технологиями (все знают, что они кодируют дельту):
- При этом, и за локальную дельту, и за каналы доставки дельты можно конкурировать. Это позволяет объяснить многие феномены от клановых войн (борьба конкретных локальных дельт) до политической борьбы (борьба за право насаждать одну дельту глобально)
4.2 Статус равновесий
Равновесия необходимы, но недостаточны для определения института:
- равновесие действительно отражает стабильное состояние социальной системы, однако для института оно невозможно без модификатора платежа — вне зависимости от типа устойчивости (ЭСС, КР)
- это означает, что равновесие не схватывает сущность института само по себе
- вместо этого, санкция, компенсирующая блеф схватывает суть института
- однако даже дельты недостаточно самой по себе, поскольку она решает конфликт локально, и нужна корреляция не только стратегий внутри игры, но и корреляция применения санкций между играми
- 🔥 интуиция института как корреляции стратегии, встречаемая в литературе (Gintis, 2009b; Guala & Hindriks, 2015; Vanderschraaf, 2017), верна, но неточна — институт требует не только скоррелированных стратегий, но и скоррелированных фактов наказания за отклонения от этих скоррелированных стратегий, иначе это просто конвенция, а не институт.
4.3 Статус правил
- Правила не имеют собтвенной онтологии в нашей концепции, но
могут служить удобными интерфейсами к этапам развития сети,
определяемыми значением параметров \(\delta\) и \(I\):
- Условная стратегия в игре с конфликтом за ресурс может быть описана как регулятивное правило «если…, то…», которое агент использует как рецепт действия — так, как предполагает Гуала. Однако это не добавляет ничего в онтологию — это просто условная стратегия
- Конститутивное и регулятивное правило действительно идентичны по форме (как предполагает Гуала), но первое несводимо ко второму. Конститутивное правило — это та же самая условная стратегия в игре с конфликтом за ресурс, только ставшая общим знанием в сети игр благодаря высоко взаимной информации \(I\) о применении санкции: «Я знаю, что все знают, что если пришел первым на холм, то можешь пасти стадо, иначе последует рейд от другого племени».
- При достижении высокой взаимной информации о применении санкции между игровыми ситуациями санкция обретает новый смысл — она теперь не за блеф в локальной стратегической ситуации, а за игнорирование общего знания о применении санкции. Это согласуется с идеей Сёрла о деонтических силах конститутивного правила.
- Это объясняет эмердженцию автономного социального порядка без магии, как это есть у Серла или Дюркгейма в социологии
- Если сеть игр — онтологический «бэкенд» института, то правила с их различением конститутивных и регулятивных — пользовательский интерфейс, делающий описание более удобным и в терминах агентов, и в терминах внешнего наблюдателя.
- Правила — эпистемическия «плагин» для удобства описания онтологии, а не онтологический примитив, как полагал Сёрль. Однако это не умаляет важность его интуиции.
5. Заключение: параметрическая социальная онтология и новая исследовательская программа
5.1. Диагностика тупика: почему «правила-в-равновесии» не решают проблему принудительной силы
- Краткий итог критики Гуалы: Теория Гуалы страдает не просто логическим кругом, а онтологической статичностью. Она принимает как данность то, что требует объяснения — готовую конвенцию («паси на своей стороне реки»), и описывает не генезис института, а его инерционное воспроизводство. Это следствие реифицирующей онтологии, где правило и равновесие — готовые сущности.
- Ключевой пробел: Игнорирование проблемы неполной информации (блефа) и, что критически важно, проблемы масштабирования локальной стабильности на множество взаимодействий. Его коррелированное равновесие (КР) — это описание состояния системы, а не механизм её устойчивости в реалистичных условиях.
5.2. Предложенное решение: параметрическая социальная онтология \(\delta/I\)-сетей и её фундаментальные параметры
- Смена онтологической оптики: Вместо сущностей (правила,
равновесия) предлагается каркас, основанный на динамических
параметрах, описывающих условия устойчивости.
- Параметр \(\delta\): Решает локальную проблему блефа. Это необходимое условие устойчивости любого равновесия (будь то ЭСС или КР) в единичной игре с конфликтом и неполной информацией. Он вводит в онтологию силовой/санкционный компонент как фундаментальный.
- Параметр \(I\) (взаимная
информация): Решает глобальную проблему масштаба. Он фиксирует
неопределенность (\(r\))
применения санкции \(\delta\) в
популяции игр. Высокое
Iозначает наличие каналов, делающих применение санкции предсказуемым и связным в разных ситуациях. Это вводит в онтологию информационно-сетевой компонент как фундаментальный.
- Новые определения как следствие:
- Протоинститут: Устойчивое равновесие, обеспеченное \(\delta\) в локальной игре
(
Iнизко или нерелевантно). - Институт (в строгом смысле): Связная сеть \(\delta\)-стабилизированных
равновесий, характеризуемая высоким значением
Iмежду её узлами (стратегическими ситуациями). Институт — это не вещь, а паттерн связности в пространстве параметров \(\delta\) иI.
- Протоинститут: Устойчивое равновесие, обеспеченное \(\delta\) в локальной игре
(
5.3. Методологическая рефлексия: статус теории и её позиция в философии науки
- Реализм без реификации (Структурный реализм): Теория не
является инструменталистской. Параметры \(\delta\) и
Iописывают объективные, каузально действующие структуры (паттерны связности и силы), необходимые для объяснения наблюдаемой устойчивости социальных порядков. Реальны не правила, а эти лежащие в их основе каузально-информационные паттерны (Dennett, 1991; Ladyman, Ross, Spurrett, & Collier, 2007). - Объяснение через лучшее объяснение (IBE, inference to the best
explanation): Вся конструкция является выводом к наилучшему
объяснению (IBE). Объясняется устойчивость сложных форм
координации вопреки неопределенности и оппортунизму за счет
существования сетей с высокими \(\delta\) и
I. Это объяснение лучше альтернатив (Сёрл, Гуала), так как оно:
- Ненадуманно (non-ad hoc): параметры \(\delta\) и
Iвводятся как решение четко формализованных проблем (блеф, масштаб). - Объединяюще (unificatory): охватывает и «деонтическую силу»
(через предсказуемость санкции при высоком
I), и «устойчивость равновесия» (через \(\delta\)). - Эмпирически ориентированно: задает новые единицы анализа
(\(\delta\),
I, сетевые каналы).
5.4. Продуктивность теории \(\delta/I\)-сетей как исследовательской программы: обратная совместимость с эмпирикой
- Операционализация понятий: главное методологическое новшество
— перевод философской онтологии в потенциально измеримые концепты.
\(\delta\) может быть
операционализирован как издержки/риски нарушения (от штрафов до
потери репутации).
Iможет быть операционализирован через сетевой анализ каналов коммуникации, мониторинга и принуждения (от скорости распространения сплетен до плотности CCTV). - Сдвиг фокуса для эмпирических исследований: Теория предлагает социологам искать не «правила» или «нормы», а:
- Источники \(\delta\): Кто/что и как может накладывать издержки?
- Каналы, повышающие
I: Как информация о применении \(\delta\) передается между ситуациями? (Социальные сети, СМИ, судебная система, ритуалы). - Точки разрыва сетей: Где
Iпадает, превращая институт в кластер нестабильных протоинститутов?
5.5. Ограничения и направления дальнейшего развития
Теория объясняет условия устойчивости принудительного социального порядка, а не его конкретное символическое содержание, смыслы или историческую траекторию. Это .онтологический и методологический каркас, а не полная социальная метафизика
Направления развития:
- Математическое: Уточнение моделей перехода от
Iкr(надежности). - Алгоритмическое: использование теории для решения насущных проблем обучения с подкреплением в мультиагентных системах
- Эмпирическое: Разработка методов измерения \(\delta\) и
Iв конкретных кейсах (например, сравнительный анализ институтов в онлайн-сообществах vs. традиционных обществах). - Теоретическое: Интеграция с концепциями легитимности (как фактор, снижающий требуемый порог \(\delta\)) и изучение динамики конкуренции за контроль над сетевыми узлами.
Представленная теория совершает тройной вклад:
- В социальную онтологию — она преодолевает тупик
синтеза через переход от онтологии реифицированных сущностей
(правила, равновесия) к онтологии фундаментальных
каузально-информационных параметров (\(\delta\),
I). - В методологию социальных наук — она предлагает не просто новую интерпретацию институтов, а новый, потенциально операционализируемый концептуальный каркас, который переводит философские вопросы о природе социального порядка в плоскость конкретных исследовательских программ, фокусирующихся на силе, информации и сетевой связности.
- В исследования мультиагентных систем — она может быть апробирована для решения дилеммы блефа в проблемах обучения с подкреплением
phd
Источники
Однако эта принудительная сила не является надындивидуальной, как у Дюркгейма (Durkheim, 2014), определившего социальные факты как способы действия, мышления и чувствования, обладающие принудительной силой. Для Сёрла нет надындивидуальной социальной реальности за пределами коллективного признания.↩︎
Коррелированное равновесие — концепция решения из теории игр, обобщающая равновесие Нэша, когда все игроки получают личный сигнал от третьей стороны, и в их интересах следовать этому сигналу (Aumann, 1987). Ярким примером является светофор. Гуала и другие учёные утверждают, что социальные нормы и правила являются такими корреляционными механизмами, подобными светофорам.↩︎
Это «гомеостатические кластеры свойств» (Boyd, 1991), которые поддерживают индуктивное обобщение и научный вывод.↩︎
A payoff matrix is a mathematical representation that shows the possible outcomes for each combination of strategies chosen by the players. Achieving coordination often requires stabilizing communication to arrive at mutual agreement, especially when different individuals or groups have conflicting preferences. This need for a reliable mechanism to resolve coordination issues is crucial in many social contexts.↩︎
Epistemic game theorists contend that there is no correlate of mixed-strategy equilibrium when viewed from epistemic (or knowledge) point of view (Perea, n.d.). I agree with them and only talk about it here for the purposes of comparison with CE.↩︎